Три пощёчины
Разговор с фотографом Фёдором Редлихом.
Текст опубликован в журнале "Дилетант" (№117, сентябрь 2025)
Фото: Фёдор Редлих с серебряным орденом Замка Локкенхаус. Архив Фёдора Редлиха
Текст опубликован в журнале "Дилетант" (№117, сентябрь 2025)
Фото: Фёдор Редлих с серебряным орденом Замка Локкенхаус. Архив Фёдора Редлиха
Фёдор Редлих работал заведующим корпунктом и собственным корреспондентом АПН по Северо-Востоку СССР, а также перевёл книги австрийца Герберта Киллиана, сосланного на Колыму.
Поговорить о судьбе австрийцев в Советской России; увидеть вживую снимки, сделанные лауреатом премии Союза журналистов «Золотой глаз России», мы отправились в подмосковное село с самым птичьим и трепетным названием — Жаворонки.
Мой отец — австриец, родился в Вене. В феврале 1934 года участвовал в восстании Шуцбунда против Гитлера, которое было подавлено, и многие, спасаясь от преследования, эмигрировали из Австрии, в том числе в Советский Союз. Так наша семья оказалась в России.
Папа всю блокаду работал на Кировском заводе Ленинграда и за время войны сдал около двадцати литров крови, одним из первых став почётным донором СССР.
В Ленинграде оказались многие шуцбундовцы, среди них — Фриц Фукс, диктор блокадного Ленинграда. Его
репортажи на немецком языке ежедневно передавались из осаждённого города. Даже обессилев, лёжа на носилках, он комментировал матч, который транслировался на передовую.
Папа всю блокаду работал на Кировском заводе Ленинграда и за время войны сдал около двадцати литров крови, одним из первых став почётным донором СССР.
В Ленинграде оказались многие шуцбундовцы, среди них — Фриц Фукс, диктор блокадного Ленинграда. Его
репортажи на немецком языке ежедневно передавались из осаждённого города. Даже обессилев, лёжа на носилках, он комментировал матч, который транслировался на передовую.
Дражный полигон. Колыма. Архив Фёдора Редлиха
Я родился в 1936 году в Ленинграде. За два дня до начала войны мама уехала к бабушке в город Александров, где некогда был центр опричнины — Александровская слобода. Войну я провёл
под Москвой.
Отца в 1946 году командировали в Австрию для работы в управлении советским имуществом. В 1947 году он вызвал маму и меня к себе. И я впервые оказался в Австрии. Всего там я прожил три года. После этого мы с мамой уехали в СССР, а два года спустя, после смерти Сталина, вернулся и папа.
Поскольку, когда я родился, отец ещё был гражданином Австрии, то впоследствии мне, уже 60-летнему, было предоставлено австрийское гражданство с сохранением российского.
под Москвой.
Отца в 1946 году командировали в Австрию для работы в управлении советским имуществом. В 1947 году он вызвал маму и меня к себе. И я впервые оказался в Австрии. Всего там я прожил три года. После этого мы с мамой уехали в СССР, а два года спустя, после смерти Сталина, вернулся и папа.
Поскольку, когда я родился, отец ещё был гражданином Австрии, то впоследствии мне, уже 60-летнему, было предоставлено австрийское гражданство с сохранением российского.
В институте, когда учился в Москве на переводчика английского и немецкого языков, я начал заниматься фотографией. Мой первый настоящий снимок — «Последний дворник Москвы», 1957 год.
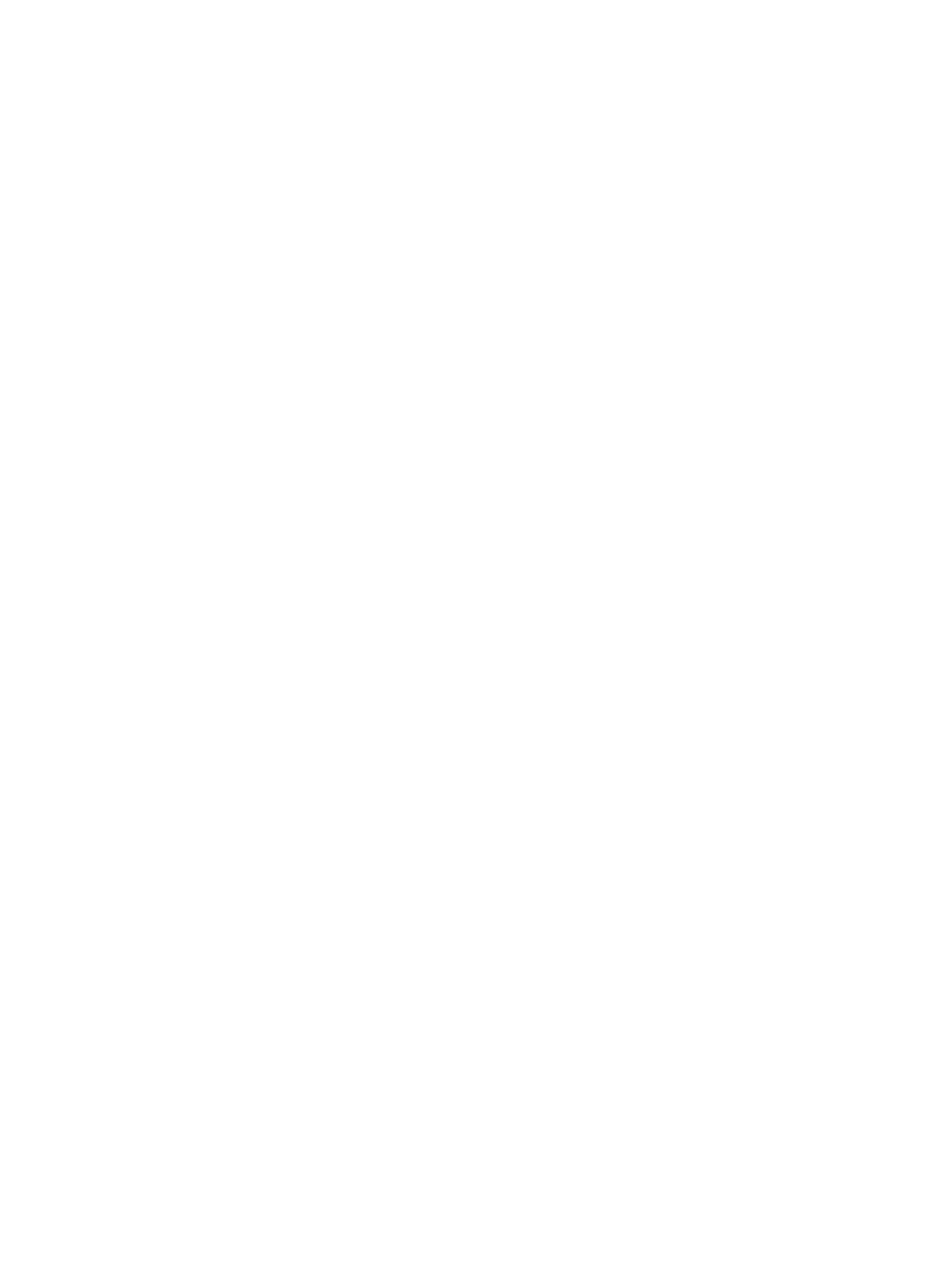
Фёдор Редлих со своим снимком «Последний дворник Москвы» (1957 год). Жаворонки, 2024 год
По окончании института получил вольное распределение, и в 1961 году меня взяли на работу
в АПН, в редакцию политических публикаций. В 1967 году утвердили собственным корреспондентом АПН по Северо-Востоку СССР с корпунктом в Магадане. Я оказался на Колыме. За четыре года объездил часть Восточной Якутии, Чукотку, побывал на острове Врангеля и на Камчатке.
в АПН, в редакцию политических публикаций. В 1967 году утвердили собственным корреспондентом АПН по Северо-Востоку СССР с корпунктом в Магадане. Я оказался на Колыме. За четыре года объездил часть Восточной Якутии, Чукотку, побывал на острове Врангеля и на Камчатке.
Озеро Джека Лондона. Архив Фёдора Редлиха
Одна из важнейших для меня колымских встреч — это Петер Демант. В мою первую командировку на Колыму директор одного из приисков, Владимир Ефимович Фейгин, интеллигент, со смущением спросил меня: «А почему вы Гансович? Немец?» — «Нет, у меня папа австриец». — «А у нас в посёлке Ягодное как раз работает один австриец. Петер Демант. Был осуждён на 10 лет, теперь освобождён, реабилитирован, принял советское гражданство, грузчиком работает».
Приезжаю в Ягодное, иду на базу, спрашиваю. Говорят: «Вот он, Петер Зигмундович, с рюкзачком». Кричу: «Герр Демант!» Он встал: руки по швам, шею втянул. Объясняю: «Господин Демант, не волнуйтесь. Я журналист, работаю в Магадане, мой отец австриец».
Мы сразу же подружились. Он сказал, что мне непременно стоит увидеть озеро Джека Лондона, крупнейший высокогорный водоём на Колыме. Тогда я решил сделать материал об этом озере для США. 10 дней мы провели вблизи озера. Обошли 200 километров, я сделал много снимков. В августе температура была +26 градусов, а лёд ещё не сошёл.
На озере Джека Лондона я сделал портрет Деманта. Снимок называется «Колымский оптимист». На его лице
101 комар — я сосчитал.
Приезжаю в Ягодное, иду на базу, спрашиваю. Говорят: «Вот он, Петер Зигмундович, с рюкзачком». Кричу: «Герр Демант!» Он встал: руки по швам, шею втянул. Объясняю: «Господин Демант, не волнуйтесь. Я журналист, работаю в Магадане, мой отец австриец».
Мы сразу же подружились. Он сказал, что мне непременно стоит увидеть озеро Джека Лондона, крупнейший высокогорный водоём на Колыме. Тогда я решил сделать материал об этом озере для США. 10 дней мы провели вблизи озера. Обошли 200 километров, я сделал много снимков. В августе температура была +26 градусов, а лёд ещё не сошёл.
На озере Джека Лондона я сделал портрет Деманта. Снимок называется «Колымский оптимист». На его лице
101 комар — я сосчитал.
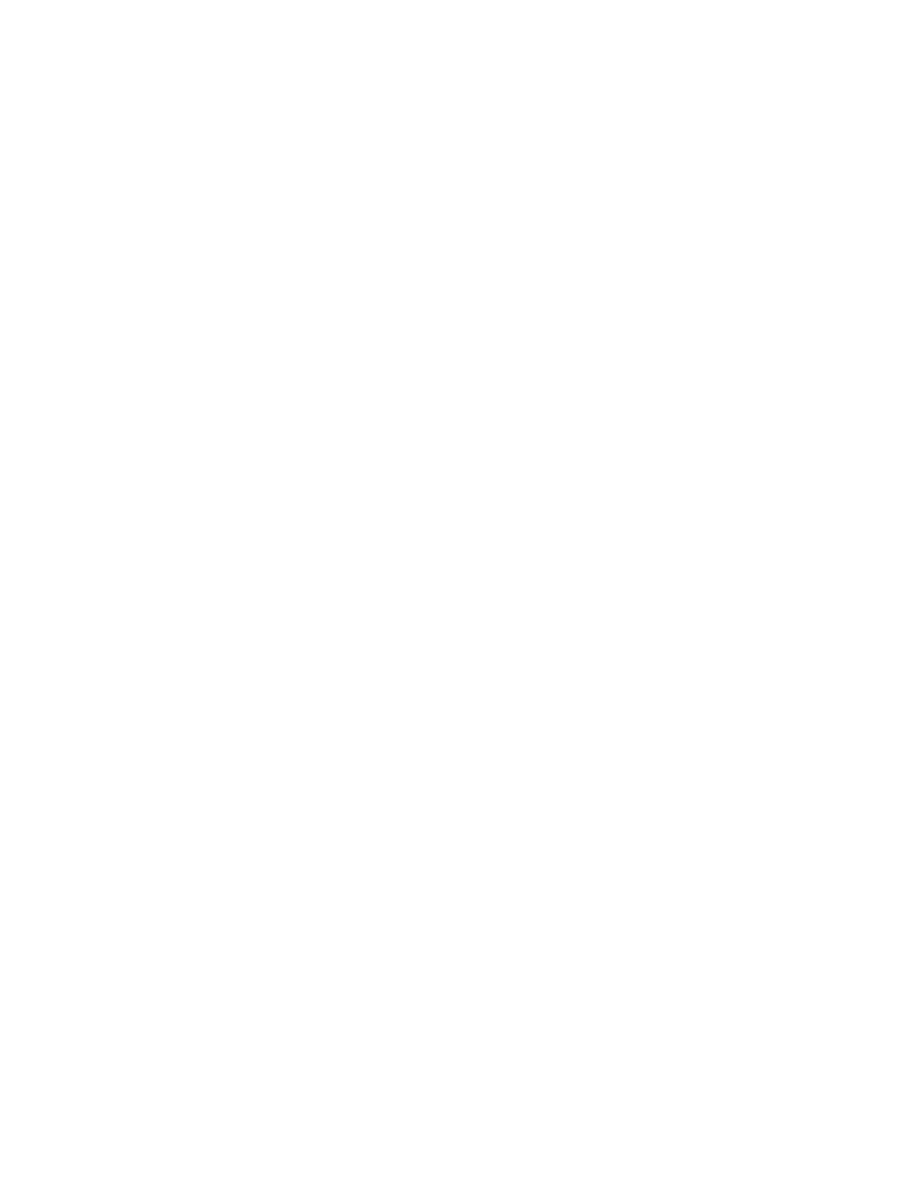
Колымский оптимист (Петер Демант). Архив Фёдора Редлиха
Петер Демант знал восемь иностранных языков. Стал замечательным писателем, публиковал произведения под псевдонимом Вернон Кресс. Самая известная его книга — «Зекамерон XX века».
Петер был освобождён в 1952 году и в Ягодном
мельком познакомился с Гербертом Киллианом.
Отдельного рассказа стоит то, как именно на Колыму попал Герберт Киллиан, автор двух переведённых мной книг.
Австрийца Герберта Киллиана в 1944 году, когда он учился в пятом классе, забрали в немецкую армию, потом перебросили в Польшу, оттуда — на западный фронт во Францию, где он попал в американский
плен. Три раза бежал. Когда в 1945 году добрался до родного города Клостернойбурга, под Веной, оказалось, что это была уже советская оккупационная зона.
Петер был освобождён в 1952 году и в Ягодном
мельком познакомился с Гербертом Киллианом.
Отдельного рассказа стоит то, как именно на Колыму попал Герберт Киллиан, автор двух переведённых мной книг.
Австрийца Герберта Киллиана в 1944 году, когда он учился в пятом классе, забрали в немецкую армию, потом перебросили в Польшу, оттуда — на западный фронт во Францию, где он попал в американский
плен. Три раза бежал. Когда в 1945 году добрался до родного города Клостернойбурга, под Веной, оказалось, что это была уже советская оккупационная зона.
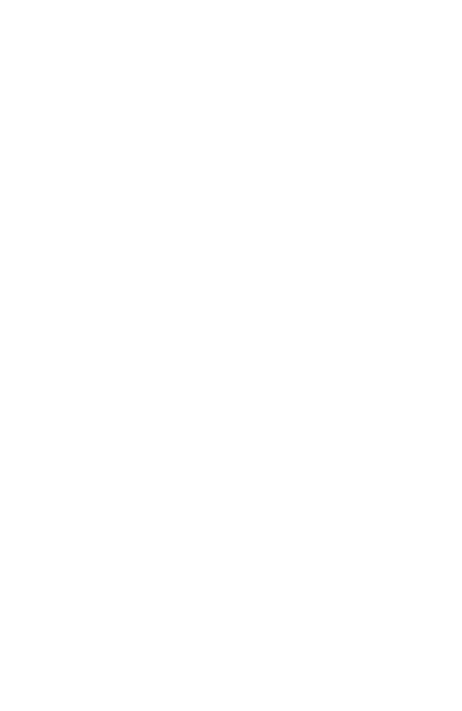
Герберт Киллиан. 1947 год Фото из книги «Вырванные годы. Украденная свобода»
В 1947 году Киллиан оканчивал школу. Дома готовился к выпускным экзаменам перед поступлением в ин-
ститут, а под окнами дети играли в футбол. Он открыл форточку, попросил, чтобы не мешали. Те стали драз-
нить его, бросать камни. Герберт спустился, догнал одного мальчика и дал ему три пощёчины.
Проходивший мимо военный патруль забрал Киллиана в комендатуру. Пострадавший мальчик оказался сыном
коменданта советского гарнизона. Трёх пощёчин 9-летнему русскому мальчику хватило, чтобы 7 июня 1947 года военный трибунал гарнизона советских войск Вены осудил 19-летнего Киллиана на три года исправительных лагерей. Его отправили в товарном поезде через Венгрию, Румынию, Урал, Сибирь до бухты Ванина. Далее — пароходом в Магадан. Затем в открытом грузовике при температуре минус 40 градусов — до золотого прииска «Спокойный», недалеко от посёлка Ягодное.
А с Гербертом Киллианом я знаком лично. Когда в 2005 году я в очередной раз поехал в Вену, Петер Демант сказал, чтобы я зашёл к его старому знакомому. Дал телефон и адрес.
На двери висела табличка: «Профессор, доктор». Открыл стройный мужчина. «Заходите. На каком языке будем говорить: на русском или на немецком?» Я ответил, что на русском наговорюсь и дома, и попросил на немецком. Мы провели несколько часов за интереснейшей беседой. Герберт рассказал, как в 2002 году он съездил на Колыму и возложил цветы к мемориалу «Маска скорби» (скульптор — Эрнст Неизвестный, архитектор — Камиль Козаев).
Прощаясь со мной, он сказал: «На днях из печати вышла моя книга. Я вам её подарю». Подписал: «Моему другу Фёдору Редлиху. Вена, 24 марта 2005 года».
ститут, а под окнами дети играли в футбол. Он открыл форточку, попросил, чтобы не мешали. Те стали драз-
нить его, бросать камни. Герберт спустился, догнал одного мальчика и дал ему три пощёчины.
Проходивший мимо военный патруль забрал Киллиана в комендатуру. Пострадавший мальчик оказался сыном
коменданта советского гарнизона. Трёх пощёчин 9-летнему русскому мальчику хватило, чтобы 7 июня 1947 года военный трибунал гарнизона советских войск Вены осудил 19-летнего Киллиана на три года исправительных лагерей. Его отправили в товарном поезде через Венгрию, Румынию, Урал, Сибирь до бухты Ванина. Далее — пароходом в Магадан. Затем в открытом грузовике при температуре минус 40 градусов — до золотого прииска «Спокойный», недалеко от посёлка Ягодное.
А с Гербертом Киллианом я знаком лично. Когда в 2005 году я в очередной раз поехал в Вену, Петер Демант сказал, чтобы я зашёл к его старому знакомому. Дал телефон и адрес.
На двери висела табличка: «Профессор, доктор». Открыл стройный мужчина. «Заходите. На каком языке будем говорить: на русском или на немецком?» Я ответил, что на русском наговорюсь и дома, и попросил на немецком. Мы провели несколько часов за интереснейшей беседой. Герберт рассказал, как в 2002 году он съездил на Колыму и возложил цветы к мемориалу «Маска скорби» (скульптор — Эрнст Неизвестный, архитектор — Камиль Козаев).
Прощаясь со мной, он сказал: «На днях из печати вышла моя книга. Я вам её подарю». Подписал: «Моему другу Фёдору Редлиху. Вена, 24 марта 2005 года».
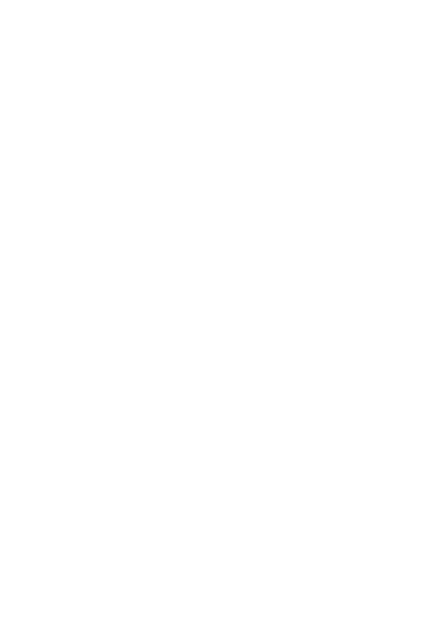
Герберт Киллиан у входа в больницу. Посёлок Дебин, 2002 год. Фото из книги «Вырванные годы. Украденная свобода»
«Лагерные ворота открываются: я становлюсь так называемым вольным, но не свободным человеком. Следующие три года и пять месяцев я всё ещё должен буду провести на Колыме. Передвигаться я смо-
гу, несмотря на свой австрийский паспорт, действительный во всех европейских странах, только в радиусе двадцати километров».
Герберт Киллиан, «Вырванные годы»
гу, несмотря на свой австрийский паспорт, действительный во всех европейских странах, только в радиусе двадцати километров».
Герберт Киллиан, «Вырванные годы»
Тогда я не мог подозревать, какое место этот подарок займёт в моей жизни.
Я прочитал книгу за три вечера. Но перевод выполнил
много позже. А Герберт так и не узнал о том, что я пере-
вёл его книги. Он умер в Вене в 2017 году. Ему был 91 год.
Я решил перевести эту книгу вот по какой причине. В 2019 году вышла моя другая книга — воспоминания «Исповедь фотолюбителя». Я поехал представлять её в Магадан, в посёлок Ягодное, где познакомился с Иваном Паникаровым, создателем музея «Память Колымы». Захотел для музея восстановить фрагменты жизни ягоднинского заключённого австрийца.
Труднее всего было перевести название. Немецкое слово включало в себя сразу несколько оттенков: «Красть, воровать разбойничьим методом, насильственно, грубо». Я не мог найти эквивалента в русском языке. Обратился к другу, в прошлом — одному из лучших переводчиков Адику Фрайману. Тот посоветовал: «Вырванные годы».
За исключением некоторых выражений на венском диалекте, сложностей не возникло.
Чтобы не отвлекаться, я лёг в больницу. И там спокойно занялся переводом — между процедурами. Вставал в четыре утра и приступал к работе.
Когда я перевёл первую книгу Киллиана — «Вырванные годы» (2005), узнал, что существует ещё одна — «Украденная свобода», 2008 года. Первая завершается выходом из лагеря, вторая начинается попыткой понять, что делать дальше.
Удаление от Ягодного приравнивалось к попытке к бегству и каралось сроком от десяти до пятнадцати лет.
Герберт направил посольству Австрии просьбу дать ему разрешение на выезд. Ему прислали австрийский паспорт, но этого было недостаточно. Необходимо было иметь ещё выездную визу с советской стороны.
Так вместо трёх лет Киллиан провёл на Колыме шесть с половиной. Работал санитаром. Лишь после смерти Сталина смог уехать.
Я прочитал книгу за три вечера. Но перевод выполнил
много позже. А Герберт так и не узнал о том, что я пере-
вёл его книги. Он умер в Вене в 2017 году. Ему был 91 год.
Я решил перевести эту книгу вот по какой причине. В 2019 году вышла моя другая книга — воспоминания «Исповедь фотолюбителя». Я поехал представлять её в Магадан, в посёлок Ягодное, где познакомился с Иваном Паникаровым, создателем музея «Память Колымы». Захотел для музея восстановить фрагменты жизни ягоднинского заключённого австрийца.
Труднее всего было перевести название. Немецкое слово включало в себя сразу несколько оттенков: «Красть, воровать разбойничьим методом, насильственно, грубо». Я не мог найти эквивалента в русском языке. Обратился к другу, в прошлом — одному из лучших переводчиков Адику Фрайману. Тот посоветовал: «Вырванные годы».
За исключением некоторых выражений на венском диалекте, сложностей не возникло.
Чтобы не отвлекаться, я лёг в больницу. И там спокойно занялся переводом — между процедурами. Вставал в четыре утра и приступал к работе.
Когда я перевёл первую книгу Киллиана — «Вырванные годы» (2005), узнал, что существует ещё одна — «Украденная свобода», 2008 года. Первая завершается выходом из лагеря, вторая начинается попыткой понять, что делать дальше.
Удаление от Ягодного приравнивалось к попытке к бегству и каралось сроком от десяти до пятнадцати лет.
Герберт направил посольству Австрии просьбу дать ему разрешение на выезд. Ему прислали австрийский паспорт, но этого было недостаточно. Необходимо было иметь ещё выездную визу с советской стороны.
Так вместо трёх лет Киллиан провёл на Колыме шесть с половиной. Работал санитаром. Лишь после смерти Сталина смог уехать.
По возвращении с Колымы в Вену он окончил престижный лесотехнический университет в Граце, защитил диссертацию, стал профессором.
И спустя 50 лет стал разыскивать мальчика, которому дал три пощёчины, за что отсидел на Колыме. Зачем? Чтобы попросить прощения. Отправился в архивы, нашёл своё дело. В нём значилось имя сына коменданта советского гарнизона: Юрий Дмитриевич Конторщиков. Тот проживал в Ленинграде, до пенсии был слесарем.
Киллиан написал ему письмо и пригласил в гости. Юрий был сильно удивлён: не помнил этого случая из своего детства. После долгих колебаний всё-таки приехал.
Герберт Киллиан и Юрий Конторщиков встретились и...
подружились. Когда Киллиан выпустил книгу (уже после смерти Конторщикова), то сделал следующее посвящение: «В память о моём покойном друге Юрии Дмитриевиче Конторщикове и всех моих мученических товарищах по Колыме».
Я перевёл и вторую книгу. Благодаря музею ГУЛАГа книги были изданы. С того момента обнаружилась «Украденная юность». Будучи в Вене, я увидел её в магазине. Сообщил, что являюсь переводчиком первых двух книг. Мне любезно подарили третью. Её я тоже перевёл и сейчас ищу возможность публикации.
И спустя 50 лет стал разыскивать мальчика, которому дал три пощёчины, за что отсидел на Колыме. Зачем? Чтобы попросить прощения. Отправился в архивы, нашёл своё дело. В нём значилось имя сына коменданта советского гарнизона: Юрий Дмитриевич Конторщиков. Тот проживал в Ленинграде, до пенсии был слесарем.
Киллиан написал ему письмо и пригласил в гости. Юрий был сильно удивлён: не помнил этого случая из своего детства. После долгих колебаний всё-таки приехал.
Герберт Киллиан и Юрий Конторщиков встретились и...
подружились. Когда Киллиан выпустил книгу (уже после смерти Конторщикова), то сделал следующее посвящение: «В память о моём покойном друге Юрии Дмитриевиче Конторщикове и всех моих мученических товарищах по Колыме».
Я перевёл и вторую книгу. Благодаря музею ГУЛАГа книги были изданы. С того момента обнаружилась «Украденная юность». Будучи в Вене, я увидел её в магазине. Сообщил, что являюсь переводчиком первых двух книг. Мне любезно подарили третью. Её я тоже перевёл и сейчас ищу возможность публикации.
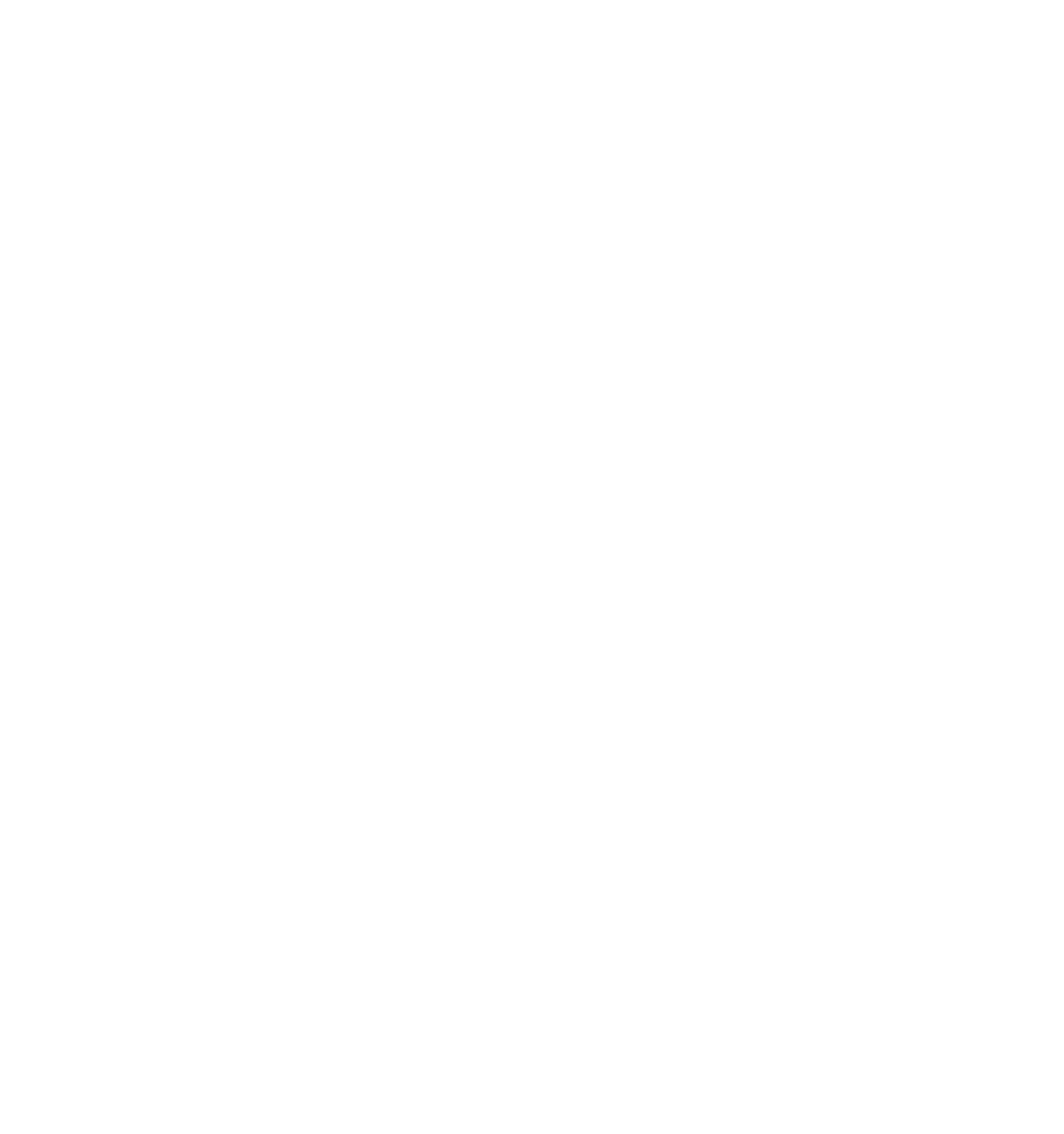
Отец колымского винограда (Николай Гутыдзе). Архив Фёдора Редлиха
Но на Колыме было много встреч, которые мне запомнились. Так я познакомился с грузином Николая Гутыдзе. В его родном местечке Чаква под Батуми произрастал редкий сорт винограда «чхавери», из которого делали изумительное полусладкое вино — кстати, любимый напиток Максима Горького. Год выдался неурожайным, и Гутыдзе обвинили во вредительстве, дав ему восемь лет.
И вот, оказавшись на Колыме, земле вечной мерзлоты, где в самом тёплом месяце года — июле — температура редко поднимается до плюс 15 градусов, он нашёл способ выращивать виноград. После освобождения работал в посёлке, где находилась теплоэлектростанция.
Ему пришла мысль создать теплицы и обогревать их сточными водами ТЭЦ. Сначала выращивал лук — для профилактики цинги, затем овощи, цветы, а под конец и виноград. В мае он снимал до 100 килограммов винограда! И всё бесплатно отдавал в детский сад.
И вот, оказавшись на Колыме, земле вечной мерзлоты, где в самом тёплом месяце года — июле — температура редко поднимается до плюс 15 градусов, он нашёл способ выращивать виноград. После освобождения работал в посёлке, где находилась теплоэлектростанция.
Ему пришла мысль создать теплицы и обогревать их сточными водами ТЭЦ. Сначала выращивал лук — для профилактики цинги, затем овощи, цветы, а под конец и виноград. В мае он снимал до 100 килограммов винограда! И всё бесплатно отдавал в детский сад.

Гастроли Мстислава Ростроповича на Чукотке. Архив Фёдора Редлиха
В бухте Провидения гастролировал Мстислав Ростропович. Я одалживал ему собачью шапку, чтобы он не замёрз, выступая на берегу залива.

Фарли Моуэт и Альберт Мифтахутдинов в Магадане. 1969 год. Архив Фёдора Редлиха
Запомнился и визит канадского писателя Фарли Моуэта. Я сделал снимок, на котором изображены Моуэт и магаданский классик Альберт Мифтахутдинов.
Позднее я подружился с Дмитрием Ледовским, журналистом, военным моряком, писателем и поэтом.
Я очень люблю его стихотворения, в частности — «Вожак» и «Пленник дождя». В последнем есть строки:
«А я с дождём тропою скользкой пойду до мокрого причала, где, может быть, начну сначала короткий быстрый рейс...»
Я очень люблю его стихотворения, в частности — «Вожак» и «Пленник дождя». В последнем есть строки:
«А я с дождём тропою скользкой пойду до мокрого причала, где, может быть, начну сначала короткий быстрый рейс...»
Колымские миражи. Архив Фёдора Редлиха
Из всех фотографий, сделанных на Колыме, мне, пожалуй, особенно дорог снимок «Колымские миражи». Он случаен: я забыл перемотать плёнку и получилось наложение кадров.
Другими важными кадрами для меня стали кадры из Вены. Ведь моя география — это Вена — Магадан — Вена.
Выйдя на пенсию, вместе с Николаем Рахмановым, моим учителем, другом, фотографом и журналистом, по рекомендации посла Австрии Франца Цеде мы два года снимали крепости, замки и обители Австрии. На вопрос австрийцев о гонораре Николай отвечал: «Это наш подарок».
В благодарность нас посвятили в австрийские рыцари и наградили серебряными орденами замка Локкенхаус.
Мы, кажется, единственные россияне, которым присуждена награда...
Выйдя на пенсию, вместе с Николаем Рахмановым, моим учителем, другом, фотографом и журналистом, по рекомендации посла Австрии Франца Цеде мы два года снимали крепости, замки и обители Австрии. На вопрос австрийцев о гонораре Николай отвечал: «Это наш подарок».
В благодарность нас посвятили в австрийские рыцари и наградили серебряными орденами замка Локкенхаус.
Мы, кажется, единственные россияне, которым присуждена награда...
Замок Гогенцоллерн. Архив Фёдора Редлиха
