Квартира, наполненная памятью
30 лет назад, 30 октября 1994 года, в день памяти жертв политических репрессий, открылся
музей. Квартира-музей. Не наоборот.
Двухкомнатная квартира Ивана Александровича Паникарова в посёлке Ягодное, Магаданская
область, стала музеем, хранящим золото-и судьбоносную память Колымы.
Материал опубликован в журнале "Дилетант" (№109), январь 2025
Остатки одного из колымских лагерей. Снимок посетителя музея «Память Колымы» Михаила Мотовилина. 2024 г.
Фотографии: архив Ивана Паникарова
Текст: Валерия Шимаковская
музей. Квартира-музей. Не наоборот.
Двухкомнатная квартира Ивана Александровича Паникарова в посёлке Ягодное, Магаданская
область, стала музеем, хранящим золото-и судьбоносную память Колымы.
Материал опубликован в журнале "Дилетант" (№109), январь 2025
Остатки одного из колымских лагерей. Снимок посетителя музея «Память Колымы» Михаила Мотовилина. 2024 г.
Фотографии: архив Ивана Паникарова
Текст: Валерия Шимаковская
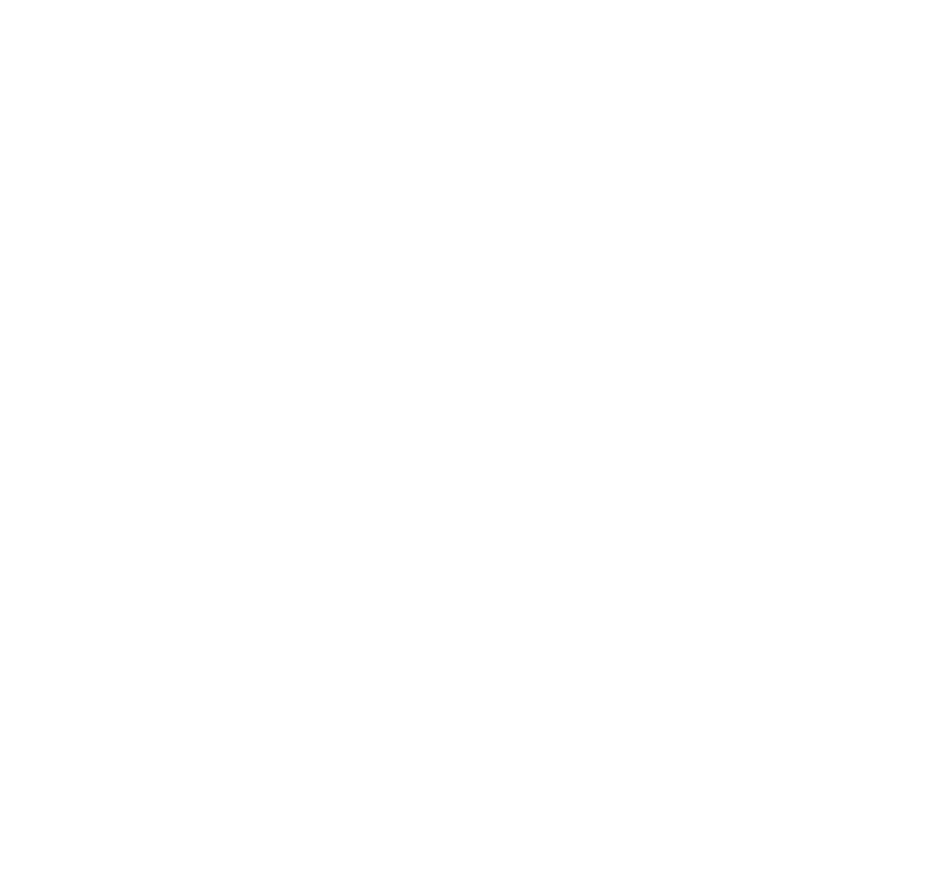
Иван Паникаров. Москва, 24 октября 2024 г.
О музее «Память Колымы» я узнала от Инны Святославовны Тимченко в 2020 году. Её отец Святослав Владимирович Тимченко, журналист и заместитель редактора газеты «Северная правда» – автор первого журналистского расследования деятельности Дальлага на Колыме. За него же в 2006 году он получил «Золотое перо».
Я старалась выйти на связь с Иваном Паникаровым с 2020 года. В 2024 году контакт состоялся. Иван сообщил, что прилетит из Магадана в Москву на Форум памяти, ежегодно устраиваемый Ассоциацией российских музеев памяти, созданной в 2015 году по инициативе Музея истории ГУЛАГа. Билет из менее удалённого от Москвы, нежели Магадан, Петербурга был взят мною на следующее утро.
24 октября. Часовые пояса затянуты. В Москве – бусая погода, преддверие холода. Встречаемся на проспекте Мира. Я скоро замерзаю и прошу зайти в холл гостиницы, где остановился Иван и другие участника Форума. Он сидит в расстёгнутой куртке и греется московской погодой: в Ягодном минус 20 и лежит снег.
Я старалась выйти на связь с Иваном Паникаровым с 2020 года. В 2024 году контакт состоялся. Иван сообщил, что прилетит из Магадана в Москву на Форум памяти, ежегодно устраиваемый Ассоциацией российских музеев памяти, созданной в 2015 году по инициативе Музея истории ГУЛАГа. Билет из менее удалённого от Москвы, нежели Магадан, Петербурга был взят мною на следующее утро.
24 октября. Часовые пояса затянуты. В Москве – бусая погода, преддверие холода. Встречаемся на проспекте Мира. Я скоро замерзаю и прошу зайти в холл гостиницы, где остановился Иван и другие участника Форума. Он сидит в расстёгнутой куртке и греется московской погодой: в Ягодном минус 20 и лежит снег.
— Иван Александрович, когда вы приехали на Колыму?
— Я из Ростовской области, родился на хуторе недалеко от Каменска-Шахтинского. В армии служил в ракетных войсках в Грузии, после работал в Ростове-на-Дону начальником почтового вагона, газоэлектросварщиком.
На прииск имени Максима Горького в Ягоднинский район приехал 24 марта 1981 года. А 28-го вышел на работу в поселковую котельную в качестве слесаря-сантехника.
— Как и почему вы занялись темой репрессий?
— Из моих родных в годы репрессий никто не пострадал. На прииске Горького я жил в общежитии. Моим соседом по комнате был Евгений Васильевич Барсуков, москвич, бывший заключённый. К нему в гости приходил Пётр Михайлович Жирков, тоже «бывший». Я слушал их рассказы о том времени.
— Я из Ростовской области, родился на хуторе недалеко от Каменска-Шахтинского. В армии служил в ракетных войсках в Грузии, после работал в Ростове-на-Дону начальником почтового вагона, газоэлектросварщиком.
На прииск имени Максима Горького в Ягоднинский район приехал 24 марта 1981 года. А 28-го вышел на работу в поселковую котельную в качестве слесаря-сантехника.
— Как и почему вы занялись темой репрессий?
— Из моих родных в годы репрессий никто не пострадал. На прииске Горького я жил в общежитии. Моим соседом по комнате был Евгений Васильевич Барсуков, москвич, бывший заключённый. К нему в гости приходил Пётр Михайлович Жирков, тоже «бывший». Я слушал их рассказы о том времени.
Вот и получилось: приехал на Колыму на три года – поработать – остался на 43…
BЧерез два с половиной года переехал жить в посёлок Ягодное. Устроился сантехником в трест «Северовостоксантехмонтаж». В 1980-х часто ездил в командировки. Шло строительство жилья, и мы, сантехники, делали отопление, канализацию, вентиляцию. Во время этих поездок я интересовался людьми, оказавшимися на Колыме не по своей воле. Так 40 лет назад и начал заниматься историей края. Вот и получилось: приехал на Колыму на три года – поработать – остался на 43…
— С чего начался ваш архив?
— В 1988 году журналист Святослав Тимченко опубликовал в районной газете «Северная правда» первые списки отбывавших наказание в районе, впоследствии – реабилитированных. Более сотни фамилий. В материале были указаны места рождения, даты ареста, освобождения, реабилитации. Эти данные Слава получил в ягоднинском паспортном столе. Реабилитированный получал «чистый», то есть без отметки о судимости, паспорт, затем заполнял справку формы номер один – анкету с информацией о себе.
По адресам справок отправлять письма стал и я. В сельскую местность, где человек работал до ареста; в сельские и поселковые Советы. Исходил из того, что односельчане друг друга помнят. Затем мне разрешили поработать в паспортных столах посёлков Ягодное и Оротукан. Выписал несколько тысяч фамилий заключённых.
— Когда стали приходить ответы?
— С конца 1980-х. Со всех регионов СССР, из СНГ, с дальнего зарубежья. Процитирую Славу Тимченко:
— В 1988 году журналист Святослав Тимченко опубликовал в районной газете «Северная правда» первые списки отбывавших наказание в районе, впоследствии – реабилитированных. Более сотни фамилий. В материале были указаны места рождения, даты ареста, освобождения, реабилитации. Эти данные Слава получил в ягоднинском паспортном столе. Реабилитированный получал «чистый», то есть без отметки о судимости, паспорт, затем заполнял справку формы номер один – анкету с информацией о себе.
По адресам справок отправлять письма стал и я. В сельскую местность, где человек работал до ареста; в сельские и поселковые Советы. Исходил из того, что односельчане друг друга помнят. Затем мне разрешили поработать в паспортных столах посёлков Ягодное и Оротукан. Выписал несколько тысяч фамилий заключённых.
— Когда стали приходить ответы?
— С конца 1980-х. Со всех регионов СССР, из СНГ, с дальнего зарубежья. Процитирую Славу Тимченко:
«Скоро писем стало приходить так много, что Ивану пришлось завести свою канцелярию. Получит письма, все их тут же зарегистрирует в специальной тетрадке-алфавитнике, разложит по папкам. Если фамилия человека красным фломастером значится, то это живой человек, если чёрным, значит, умер и о нём родные пишут».
(Северная правда, №139-141, 01.12.1990)
(Северная правда, №139-141, 01.12.1990)
— Кто обращался к вам за информацией?
— Много кто — и простые люди, и представители областных правоохранительных структур, и органы власти. Помогал церкви, газете, библиотеке, больнице, почте, отделу культуры, отделу спорта, управлению образования.
В 1991 году я создал общественную организацию «Поиск незаконно репрессированных». Появилась печать. Мои письма стали официальными. Сегодня в мои архивы записано порядка 100 тысяч имён. О них я пишу «Книгу судеб».
— Много кто — и простые люди, и представители областных правоохранительных структур, и органы власти. Помогал церкви, газете, библиотеке, больнице, почте, отделу культуры, отделу спорта, управлению образования.
В 1991 году я создал общественную организацию «Поиск незаконно репрессированных». Появилась печать. Мои письма стали официальными. Сегодня в мои архивы записано порядка 100 тысяч имён. О них я пишу «Книгу судеб».
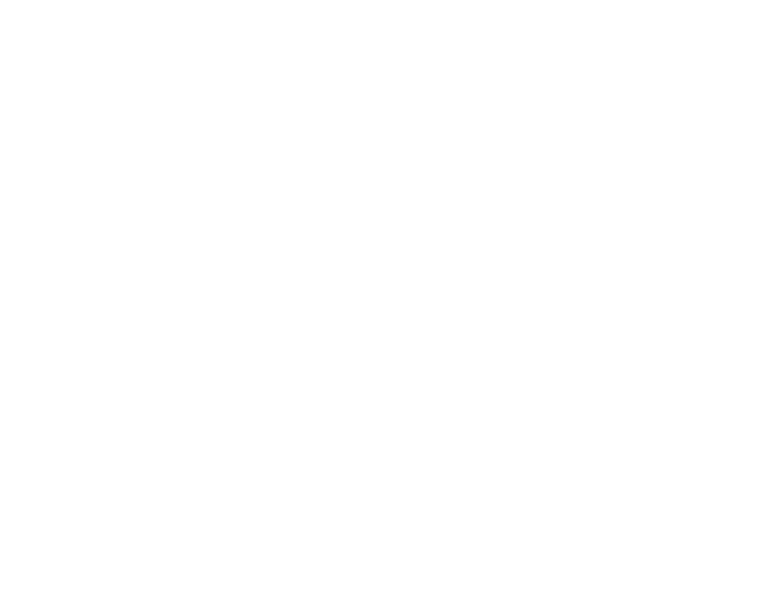
Печать музея
Отправленные вами письма, собранные в каталоги, наводят на мысль о переписи населения Сахалина, в одиночку осуществлённой Чеховым. Вы тоже писали письма вручную?
Сначала я писал письма вручную, затем жена подарила мне ко дню рождения печатную машинку. Печатать помогали сотрудницы ягоднинской библиотеки, школьники, жители района. Рабочим кабинетом служила кладовка. Я смастерил стеллаж, где переписку и хранил.
Сначала я писал письма вручную, затем жена подарила мне ко дню рождения печатную машинку. Печатать помогали сотрудницы ягоднинской библиотеки, школьники, жители района. Рабочим кабинетом служила кладовка. Я смастерил стеллаж, где переписку и хранил.
«Иван принялся перечислять всех, с кем находился в переписке, и просто поразил тем, что полностью, без запинки называл имена, отчества людей, место их жительства. Я для интереса решил посчитать, сколько же он людей вот так помнит, но после того, как Ваня
назвал мне человек двадцать пять, я решил остановить его, вспомнив, что в переписке с ним состоит человек семьдесят».
(Статья Святослава Тимченко об Иване Паникарове. 1990 год).
назвал мне человек двадцать пять, я решил остановить его, вспомнив, что в переписке с ним состоит человек семьдесят».
(Статья Святослава Тимченко об Иване Паникарове. 1990 год).
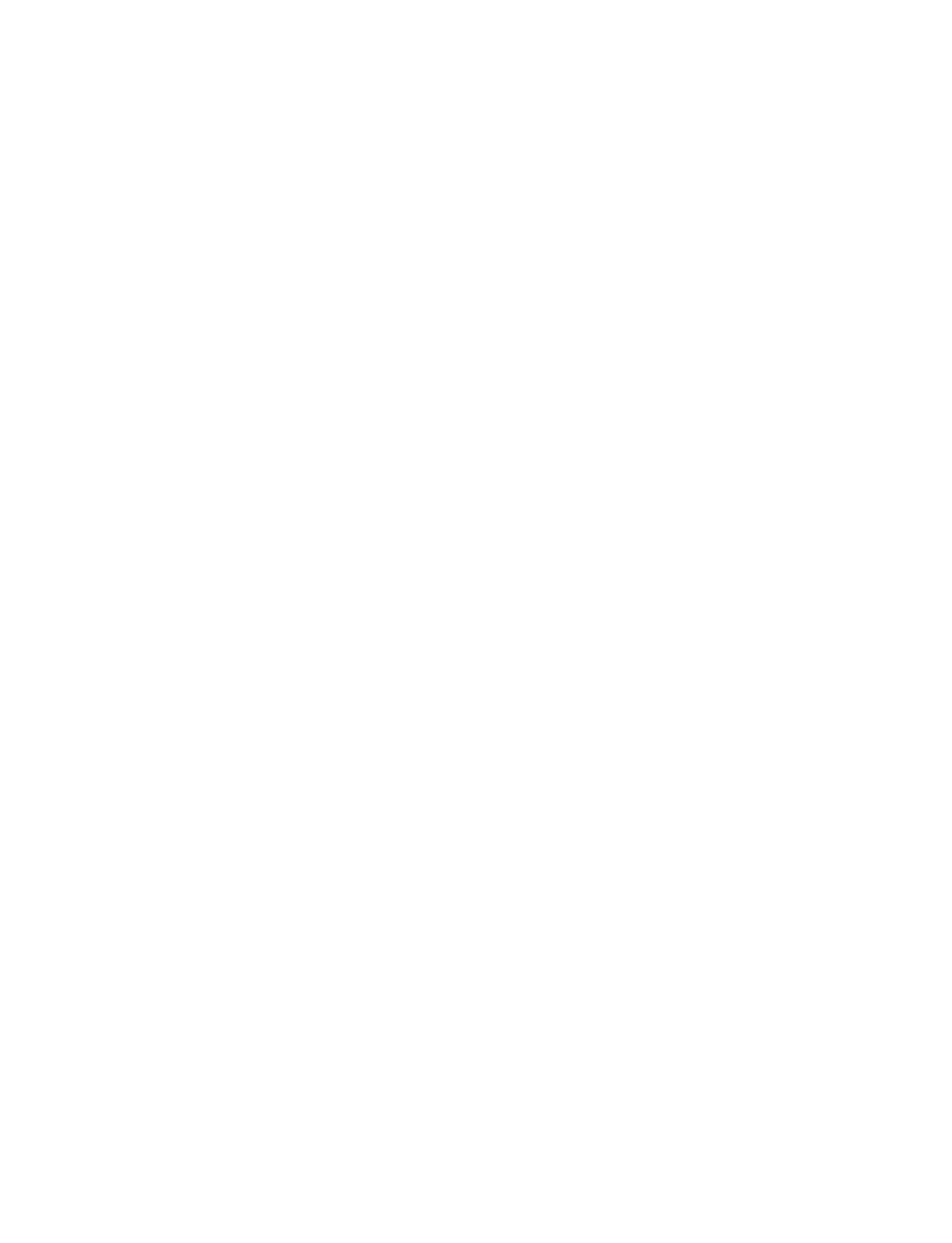
Статья Святослава Тимченко об Иване Паникарове, Северная правда, 1990 год.
— Как вы собирали экспонаты для музея?
— Организовывал экспедиции. С конца 1980-ых до лета 1994 года побывал на остатках лагерей Кинжал (того самого, где находился актёр Георгий Жжёнов), Днепровский, Эльген, Бутугычаг, Холодный, Заманчивый, Утиный, Спокойный. Привёз из этих мест орудия труда, одежду, обувь, кухонную утварь. Делал снимки. Те, с кем я переписывался, тоже присылали документы и фотографии, передавали вещи лично.
— Организовывал экспедиции. С конца 1980-ых до лета 1994 года побывал на остатках лагерей Кинжал (того самого, где находился актёр Георгий Жжёнов), Днепровский, Эльген, Бутугычаг, Холодный, Заманчивый, Утиный, Спокойный. Привёз из этих мест орудия труда, одежду, обувь, кухонную утварь. Делал снимки. Те, с кем я переписывался, тоже присылали документы и фотографии, передавали вещи лично.
Икона-оберег. Найдена в 1990 г. при разборке барака постройки 1940-ых в посёлке Джелгала. Подобные обереги появились в Российской империи после Отечественной войны 1812 года. Передал музею В.А. Скрипников в 2001 г.
Деревянный чемодан, принадлежавший заключённому. С 1931 по 1937 г., когда трестом «Дальстрой» руководил первый директор Э.П. Берзин, заключённые получали зарплату и отправляли переводы на материк.
Чайник, сделанный из банок из-под тушёнки. Лагерь «Верхний Оротукан». Передал музею В. Кобылешный в 1999 г.
Особое место в музее занимают рисунки. Есть картина белорусского художника Сергея Ковалёва, написанная маслом на мешковине в лагерной больнице «Беличья» в 1943 году. На обратной стороне на английском указано, что в этой мешковине во время войны на Колыму из США по ленд-лизу доставлялась мука. Картину в 1999 году передала мне бывший главврач больницы Беличья Нина Владимировна Савоева.
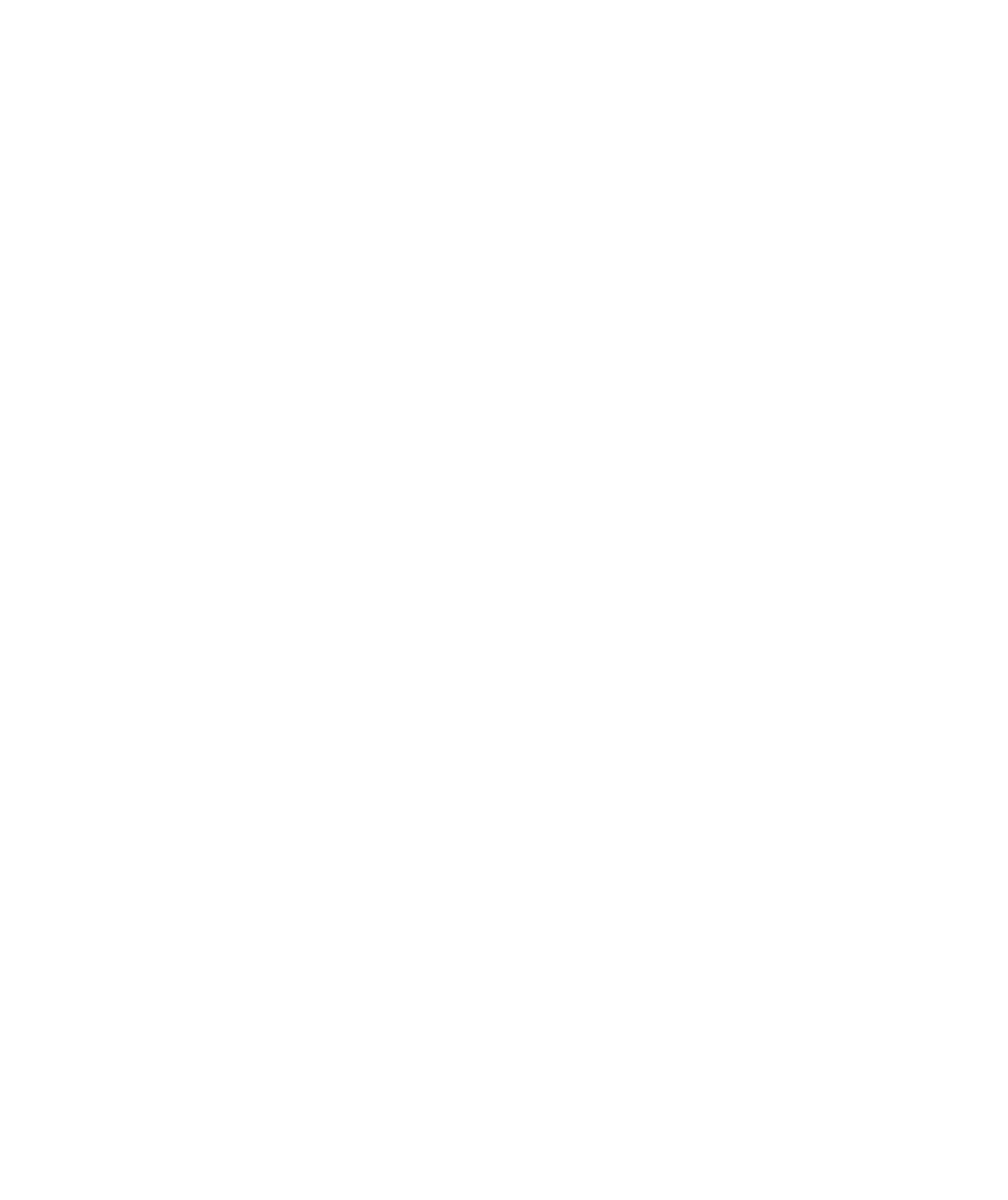
Картина Сергей Ковалёва. 1943 г., лагерная больница «Беличья». На картине изображена женщина с лицом Н.В. Савоевой (в правом нижнем углу стоит её фотография 1947 г.), родившейся в селе Христиановское, Северная Осетия. Возможно, таким образом художник хотел отблагодарить врача за доброе отношение к заключённым. Передала музею Н.В. Савоева в 1999 г.
— Помните ли вы день открытия музея?
— День открытия музея помню хорошо. Это произошло 30 октября 1994 года, в день памяти жертв политических репрессий. В коридоре и одной из двух комнат моей квартиры (посёлок Ягодное, пятиэтажка на улице Транспортная, третий этаж) открыл выставку памяти жертв политических репрессий. Можно сказать – частный музей.
Квартиру мы купили с женой на средства, заработанные на восстановлении систем отопления и водопровода ягоднинской больницы и Дома Культуры: в декабре 1993 года произошла авария на котельной, посёлок был разморожен.
— День открытия музея помню хорошо. Это произошло 30 октября 1994 года, в день памяти жертв политических репрессий. В коридоре и одной из двух комнат моей квартиры (посёлок Ягодное, пятиэтажка на улице Транспортная, третий этаж) открыл выставку памяти жертв политических репрессий. Можно сказать – частный музей.
Квартиру мы купили с женой на средства, заработанные на восстановлении систем отопления и водопровода ягоднинской больницы и Дома Культуры: в декабре 1993 года произошла авария на котельной, посёлок был разморожен.
На открытие музея пришло много людей, в том числе бывшие репрессированные. Весной 2003 года музей был переименован в «Память Колымы».
— Что было сделано за 30 лет существования музея?
— В начале 1990-ых по моим заявлениям было реабилитировано более 20 человек. Организовано около 60 экспедиций по нежилым посёлкам и остаткам лагерей. Издано 44 книги. Собрано более 50 тысяч архивных фотографий бывших заключённых и вольнонаёмных. Имеются подшивки газет, копии приговоров, элементы лагерного быта...
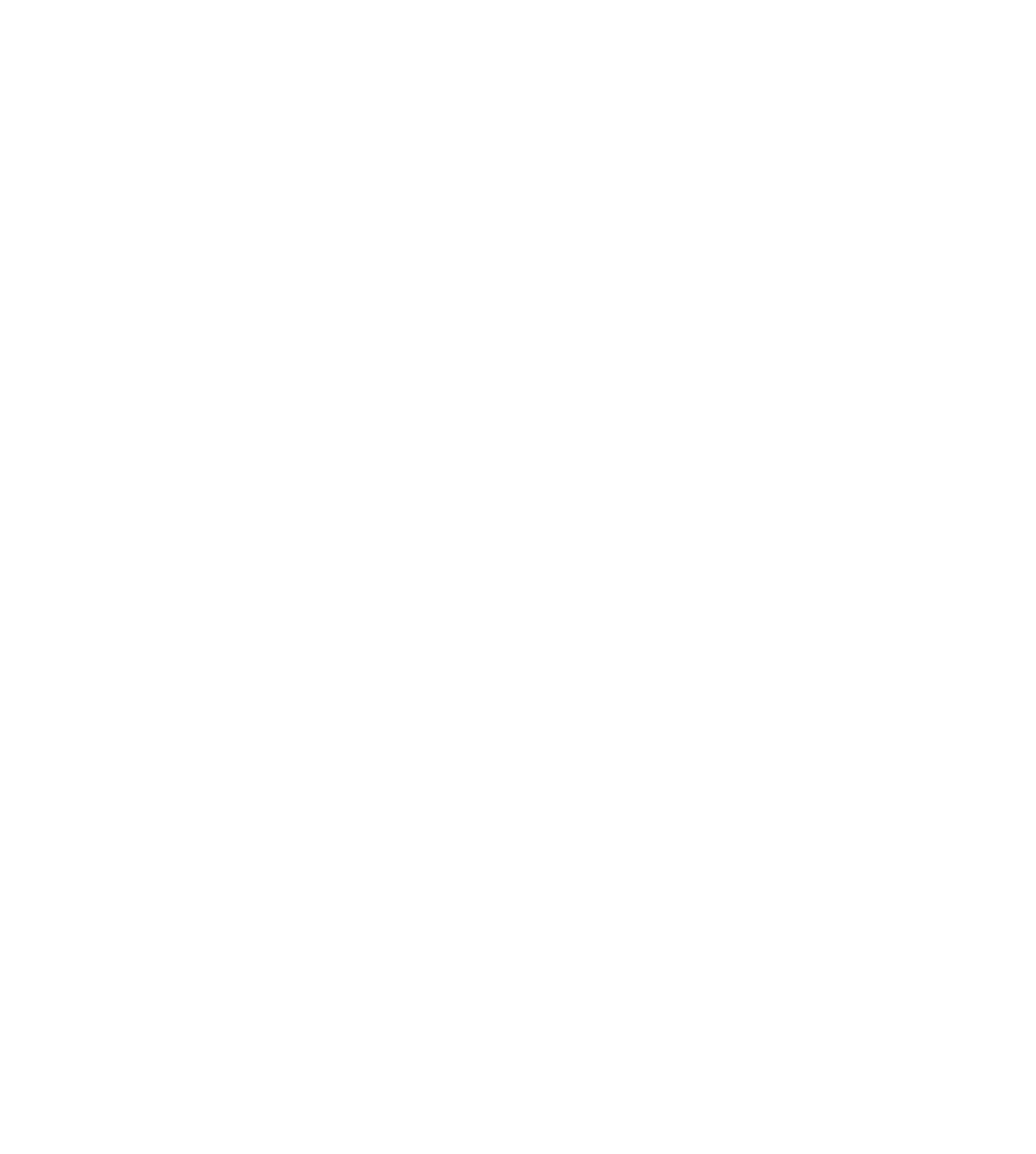
Документы, связанные с Кофманом Самуилом Моисеевичем: конверт с письмом жене в Москву; письмо; фотография; справка о реабилитации от 1995 г. Сам С. М. Кофман умер в 1950 г. в пос. Спорный, Магаданская область.
— Можете рассказать о посетителях музея?
— Музей посетило около 5 тысяч человек. Приезжали из Европы, США, Южной Америки, Африки (ЮАР, Египта, Мали), азиатских стран, Австралии, Новой Зеландии. Шейх Арабских Эмиратов Ибрагим Шараф посетил мой музей дважды: в 2007 и 2012 годах.
— Планируется ли открытие отдельного здания под музей?
— Представители власти обещают выделить помещение. В музее побывали все губернаторы Магаданской области, каждый обещал помочь, но не успевал. Филиал есть в Доме Культуры.
Я немолод, последняя надежда на нынешнего губернатора Сергея Константиновича Носова, который в этом году посетил не только квартиру, но и гараж, где также хранятся экспонаты.
— Получается, что это не только квартира-музей, но и гараж-музей… А когда лучше всего приезжать в Ягодное?
— В конце июля или начале августа. В это время можно организовать экспедиции на остатки лагерей и в заброшенные посёлки. Нужно долететь до Магадана. От Магадана до Ягодного ещё 520 километров, которые преодолимы самолётом (рейсы по понедельникам), автобусом (ходит через день), микроавтобусом.
Музей бесплатен для посетителей. Открыт каждый день, в том числе в выходные, почти круглосуточно. Бывает, звонок раздаётся ночью: «Здесь проездом, хотим посетить». Открываю и провожу экскурсию.
— Музей посетило около 5 тысяч человек. Приезжали из Европы, США, Южной Америки, Африки (ЮАР, Египта, Мали), азиатских стран, Австралии, Новой Зеландии. Шейх Арабских Эмиратов Ибрагим Шараф посетил мой музей дважды: в 2007 и 2012 годах.
— Планируется ли открытие отдельного здания под музей?
— Представители власти обещают выделить помещение. В музее побывали все губернаторы Магаданской области, каждый обещал помочь, но не успевал. Филиал есть в Доме Культуры.
Я немолод, последняя надежда на нынешнего губернатора Сергея Константиновича Носова, который в этом году посетил не только квартиру, но и гараж, где также хранятся экспонаты.
— Получается, что это не только квартира-музей, но и гараж-музей… А когда лучше всего приезжать в Ягодное?
— В конце июля или начале августа. В это время можно организовать экспедиции на остатки лагерей и в заброшенные посёлки. Нужно долететь до Магадана. От Магадана до Ягодного ещё 520 километров, которые преодолимы самолётом (рейсы по понедельникам), автобусом (ходит через день), микроавтобусом.
Музей бесплатен для посетителей. Открыт каждый день, в том числе в выходные, почти круглосуточно. Бывает, звонок раздаётся ночью: «Здесь проездом, хотим посетить». Открываю и провожу экскурсию.
Иногда за предлогами, почему не- кроется простое: не хватало смелости
Михаил Мотовилин – человек, проделавший путь от Москвы до Ягодного и посетивший музей «Память Колымы» летом 2024 года. Вот его впечатления.
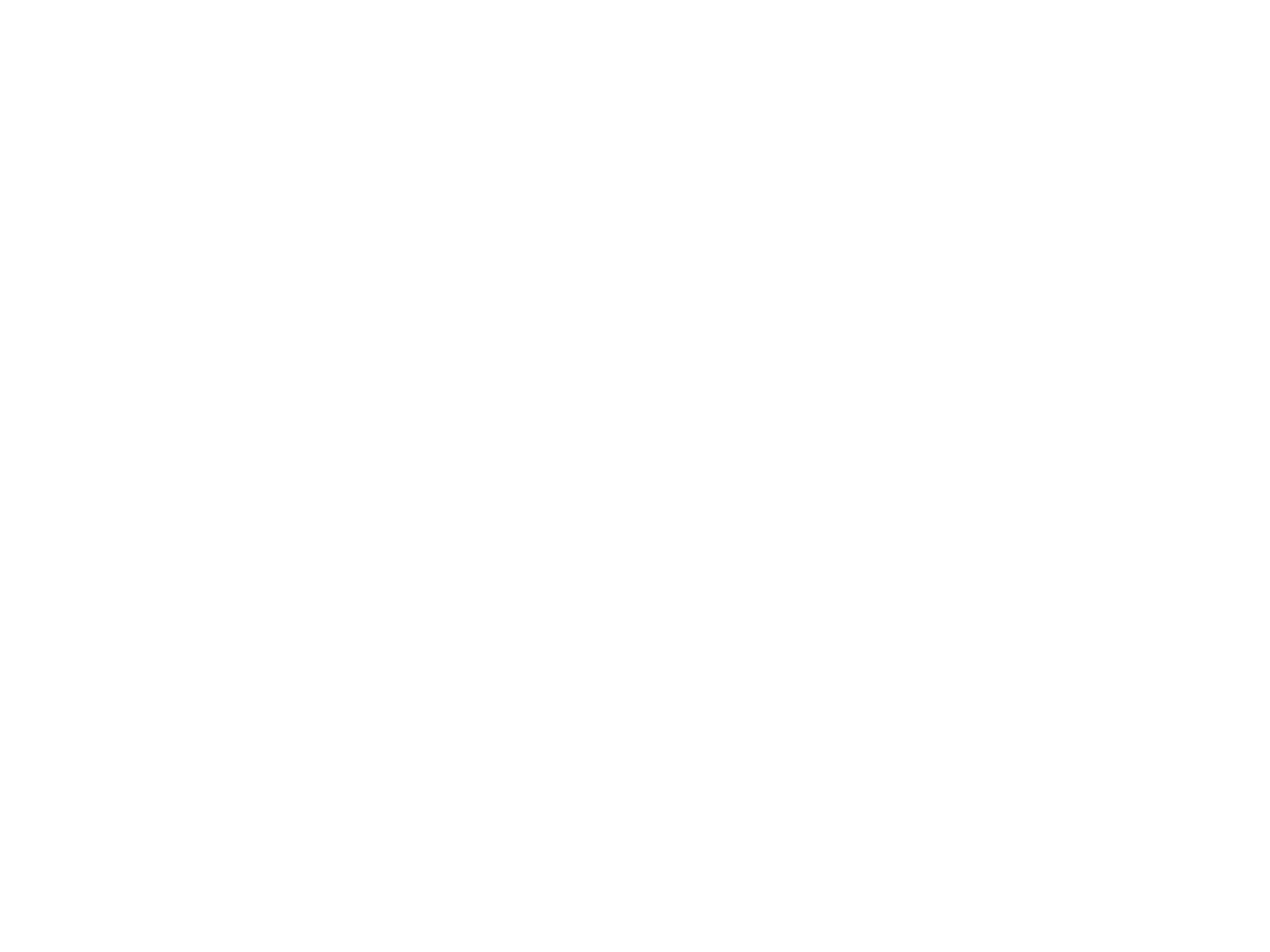
Остатки одного из колымских лагерей. Снимок посетителя музея «Память Колымы» Михаила Мотовилина. 2024 г.
Во мне давно жила идея совершить путешествие от Якутска до Магадана. Всё не получалось: то не было времени, то не хватало денег. Потом понял, что не хватало смелости.
В качестве транспорта выбрал велосипед. Довольно авантюрный вариант. Экстремальный, прямо скажем.
18 июня прилетел из Москвы в Якутск. 1 июля сел на паром до Нижнего Бестяха.
Задачу максимально быстро доехать до Магадана перед собой не ставил: хотелось почувствовать Колыму. Было интересно всё: архитектура, условия жизни, занятия населения, климат. Летом видел зиму: под посёлком Дебин выпал снег.
По дороге обратил внимание на якутские захоронения. Стал читать про погребения, религиозные обряды.
Расспрашивал местных. Слушал легенды. Мой телефон, наверное, знает полколымы…
Строительство трассы и лагеря было одной из ключевых тем поездки. Посетил музеи Якутии – в посёлке Хандыга, в селе Тёплый Ключ. В городе Сусуман побывал в народном музее ГУЛАГа Михаила Шибистого. Затем отправился в музей "Память Колымы".
В каждом музее памяти – свой дух. Московский Музей истории ГУЛАГа открывается экспозицией лагерных дверей. Музей Михаила Шибистого расположен в торговом центре. Музей Ивана Паникарова – в квартире, в которой продолжает жить он сам. Вместе с Иваном я побывал на остатках бывшего лагеря. А в качестве сувенира привёз колючую проволоку с лагеря Днепровский».
В качестве транспорта выбрал велосипед. Довольно авантюрный вариант. Экстремальный, прямо скажем.
18 июня прилетел из Москвы в Якутск. 1 июля сел на паром до Нижнего Бестяха.
Задачу максимально быстро доехать до Магадана перед собой не ставил: хотелось почувствовать Колыму. Было интересно всё: архитектура, условия жизни, занятия населения, климат. Летом видел зиму: под посёлком Дебин выпал снег.
По дороге обратил внимание на якутские захоронения. Стал читать про погребения, религиозные обряды.
Расспрашивал местных. Слушал легенды. Мой телефон, наверное, знает полколымы…
Строительство трассы и лагеря было одной из ключевых тем поездки. Посетил музеи Якутии – в посёлке Хандыга, в селе Тёплый Ключ. В городе Сусуман побывал в народном музее ГУЛАГа Михаила Шибистого. Затем отправился в музей "Память Колымы".
В каждом музее памяти – свой дух. Московский Музей истории ГУЛАГа открывается экспозицией лагерных дверей. Музей Михаила Шибистого расположен в торговом центре. Музей Ивана Паникарова – в квартире, в которой продолжает жить он сам. Вместе с Иваном я побывал на остатках бывшего лагеря. А в качестве сувенира привёз колючую проволоку с лагеря Днепровский».
Пока мы беседовали с Иваном Паникаровым 24 октября, в гостиницу на проспекте Мира заселялись представители музеев памяти со всей страны. Всего на Форум памяти, возглавляемый директором Музея истории ГУЛАГа, собралось 47 представителей из 22 регионов.
После интервью с Иваном Паникаровым я дошла до Музея истории ГУЛАГа – ещё раз взглянуть на знаменитые двери, открыть для себя авторов – в частности, Георгия Демидова, собрание сочинений которого, подготовленное его дочерью Валентиной Георгиевной, было издано программой Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти совместно с Издательством Ивана Лимбаха в 2023 году. С дома 4-го Самотёчного переулка строго и просто смотрел Шаламов, выполненный
граффити-кистью стрит-художника Zoom.
После интервью с Иваном Паникаровым я дошла до Музея истории ГУЛАГа – ещё раз взглянуть на знаменитые двери, открыть для себя авторов – в частности, Георгия Демидова, собрание сочинений которого, подготовленное его дочерью Валентиной Георгиевной, было издано программой Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти совместно с Издательством Ивана Лимбаха в 2023 году. С дома 4-го Самотёчного переулка строго и просто смотрел Шаламов, выполненный
граффити-кистью стрит-художника Zoom.
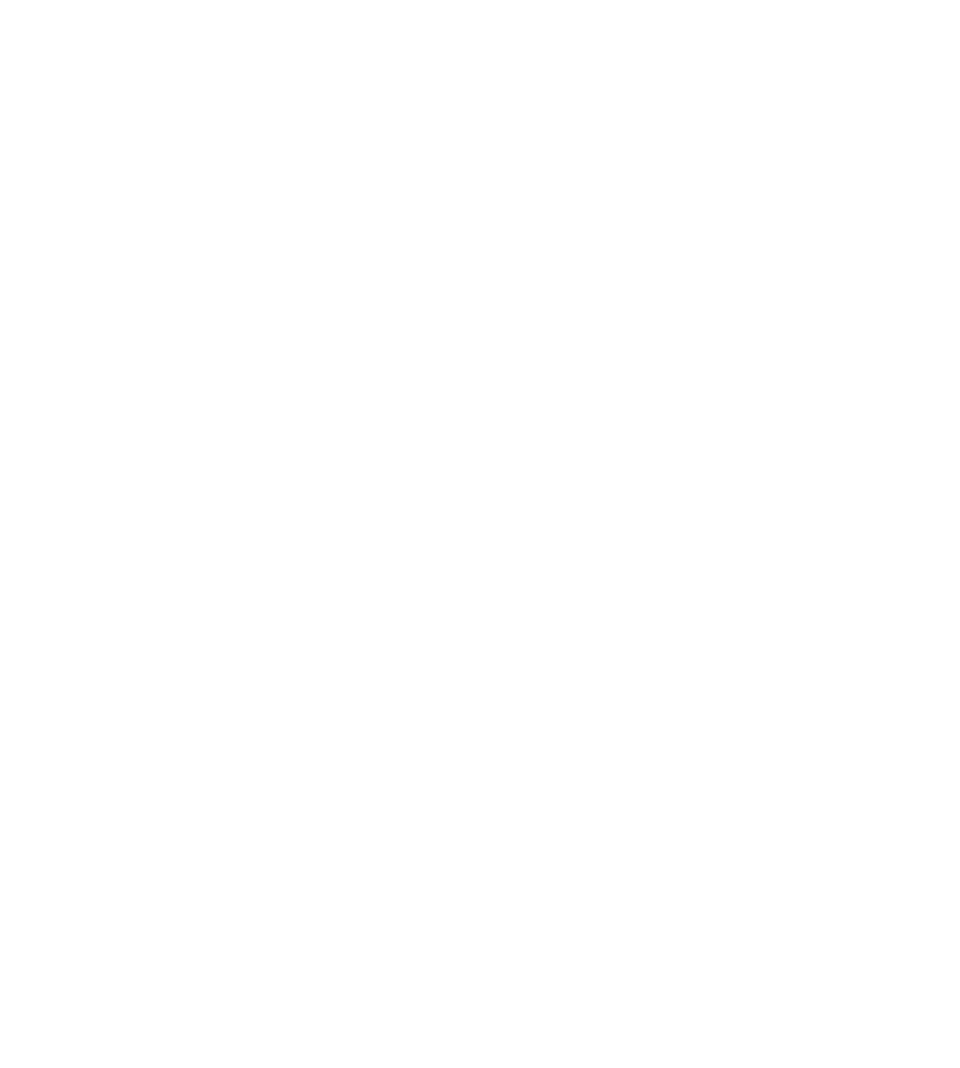
Граффити с Варламом Шаламовым художника Zoom. 4-ый Самотёчный переулок, вблизи московского Музея истории ГУЛАГа.
А потом прошло ещё немного времени. Иван Паникаров уехал в Магадан. Создатели музеев памяти – в свои города.
14 ноября Музей истории ГУЛАГа «временно приостановил свою работу».
Варлам Шаламов строго и просто смотрит с дома 4-го Самотёчного.
14 ноября Музей истории ГУЛАГа «временно приостановил свою работу».
Варлам Шаламов строго и просто смотрит с дома 4-го Самотёчного.
